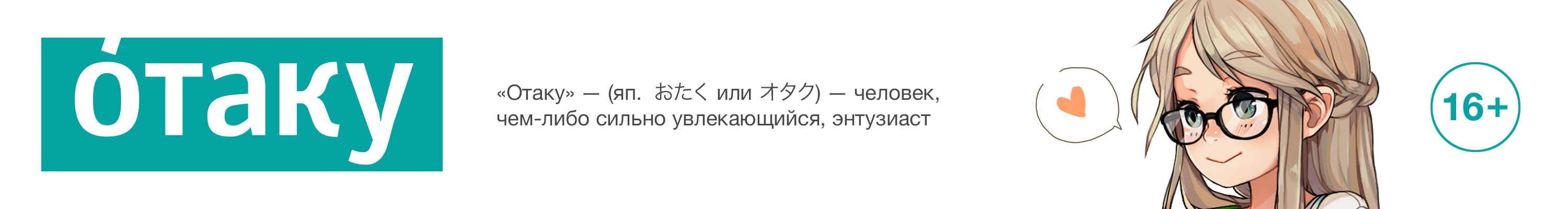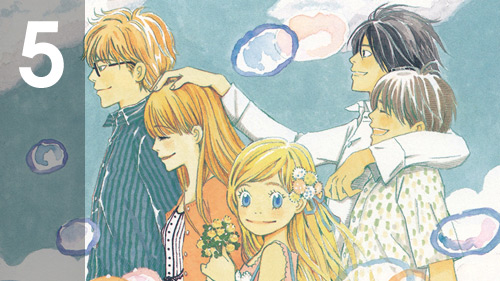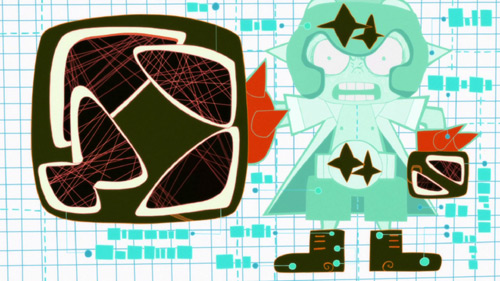Attack on Titan: что это было
Вероятно, будущее. Возможно, Земля. Население планеты сократилось до миллиона с небольшим человек, живущих фактически в огромном концентрическом городе-замке с тремя кольцами стен — Сина, Роза и Мария. Стены вроде бы надежно охраняют людей от стай кошмарных великанов, кочующих по степи за пределами города. Малоразумные, бессловесные, голые (однако лишенные причинных мест) великаны с удовольствием жрут хомо сапиенсов и почти неуязвимы: известно, что если великану отрезать особое место на шее, он превратится в пар. Малолетний Эрен, живущий в районе Сигансина у внешней стены, становится свидетелем того, как явно обладающий разумом титан без кожи, похожий на муляж из кабинета анатомии, проламывает стену, — и орды жутких созданий превращают Сигансину в ад…

Классик советской фантастики Александр Петрович Казанцев как-то издал очень толстый роман, название которого обозначает теперь среди фантастов любую тягостную бессмыслицу, отнимающую у читателя время, но ничего не дающую взамен: «Клокочущая пустота». «Атака титанов» — это блестящий пример клокочущей пустоты. Кажется, ничего более бессмысленного японцы за последние годы не произвели — и вряд ли произведут в будущем: такую концентрацию пустоты на пиксель попробуй превзойди.
Впрочем, и Макото Синкая, который недавно в Москве назвал «Атаку титанов» чуть не лучшим аниме современности, понять можно. Начало у сериала многообещающее. Загадки! Чудовища! Насилие! Великаны пожирают безвинных людей, кровища течет рекой, летят во все стороны откушенные руки-ноги. Мать Эрена гибнет в злоедучей пасти, а отец как-то очень туманно намекает на то, что всё в руках Эрена, главное — добраться до подвала, вот ключ, сынок… Зрителя, почти не церемонясь, бросают в пучину событий, и хотя тот понимает, что где-то всё это уже видел — Ангелы? Синдзи? ах да, и отец еще!.. — антураж нов, картинка ярка, интрига зазывна.
Много позже станет ясно, что «Атака титанов» по большей части — унылейшая тягомотина, бездарно маскирующаяся под экшн. Ничего личного, сплошная математика: из 25 серий три пятых приходится на немоверно растянутые описания двух не шибко масштабных событий — битвы за район Трост (девять серий) и вылазки разведотряда за Стену (шесть серий). Хронометраж отдельной серии тоже оставляет желать лучшего: с учетом титров-песен, краткого содержания, дублирующихся сцен и анонса на чистое действие остается хорошо если 16 минут из 24. Но даже при таком раскладе получается, что, скажем, за Стеной разведчики вяло приключаются целых полтора часа, то есть перемещения героев показаны практически в реальном времени; в нормальном кино это был бы в лучшем случае 20-минутный эпизод. Абсурд зашкаливает: вот герои третью серию подряд скачут по одной и той же дороге, стремительно улепетывая от Очень Быстрой Великанши, размах ног которой позволяет добраться до них секунд за десять. Ну за минуту. Ну за пять. И сожрать с потрохами, раздавить розовыми пятками или что там еще великаны делают с людьми. Что происходит?.. Сюжета нет, а серии надо чем-то заполнять. Но не так же откровенно!

Видимо, концепция сериала безмерно удивляет и самих героев, недаром они ходят со страшно выпученными глазами. Спорить нечего, рисунок у молодого мангаки Хадзимэ Исаямы («Титаны» — это дебют) эффектный, студия Wit довольно аккуратно перенесла его на экран, но не картинкой единой живо и аниме. Хорошо бы дополнить ее каким-то завалящим смыслом, не сводящимся к гениальной строке русского писателя «другой отряд опять побежал в другую сторону». Для подобной беготни голые дебилы от 3 до 15 метров ростом, разумеется, идеальны — но откуда они взялись? Что им (их хозяевам, их создателям) нужно? И как вышло, что люди скатились примерно в XVIII век, но не запомнили момент собственного падения? Кто построил стены? На самом ли деле они защищают людей — или это, скажем, забор вокруг гигантских стойбищ, где остатки человечества живут и размножаются, пока неизвестные точат ножи в предвкушении грядущего пира?
Можно измыслить еще с десяток версий, но толку? В рядовом аниме есть сюжет: что-то начинается, продолжается и заканчивается. В очень хорошем аниме внешний сюжет лишь маскирует то, что происходит на деле; так куда интереснее. В «Атаке титанов» сюжета нет. Главгерой Эрен, положим, мужает, обретает неясную способность превращаться в великана (мотив «лучший способ избавиться от дракона — иметь своего собственного» напрашивается, но по этому пути «Атака…» не пойдет), осознаёт, что ситуация не столь проста, как кажется, — однако и в последней серии мы ничуть не ближе к тайне титанов, нежели в первой. Вдумайтесь: за 25 серий зритель не получает ответа ни на один вопрос! Как пораженный великан испаряется белым дымом на ветру, так и забрезживший смысл происходящего всякий раз оборачивается иллюзией, за которой нет ничего, кроме той самой клокочущей пустоты. Ну и мордобития. Куда без мордобития.
Хотя нет — под «Атакой титанов» имеется и третий кит, пожалуй, самый утомляющий. Аниме страдает от недуга, который можно поименовать метикулёзом от английского слова meticulous, «щепетильный, педантичный, мелочно-дотошный». Каждое движение героя должно быть показано крупным планом. Каждая эмоция должна отражаться на лице — и не менее трех секунд. Каждая мысль, какой банальной она ни была бы, подлежит продумыванию вслух в точных, не допускающих двусмысленности выражениях (вдруг титаны смотрят?). И конечно, чрезвычайно важны технические подробности — всякие там устройства пространственного маневрирования, виды и рода войск, породы лошадей, тележки с уникальной системой амортизации, религия стенолюбов, никакого влияния на сюжет не оказывающих. Когда сказать нечего, становись акыном. Когда воображение не работает, ударяйся в точность.

Но и запущенный метикулёз можно было простить, если бы с каждой серией не нарастало упоминавшееся дежавю. Когда выясняется, что Эрен, трансформируясь в великана, физически «вшит» в основание шеи великанского тела, то есть располагается в точности там, где располагался пилот Евы, терпение лопается. «Атака титанов» откровенно пытается сыграть на успехе «Евангелиона»: вот мальчик, он борется с врагами, превращаясь в одного из них, он не хочет бороться, но надо, надо… Может, Исаяма и правда придумал своих великанов оттого, что его били в школе, или потому, что проигрывал на детских чемпионатах сумо, или в тот момент, когда его, взрослого работника ночного интернет-кафе, хватанул за галстук нажравшийся до бессловесности посетитель, — версии разнятся. Поверить в ответ на прямой вопрос «Почему именно великаны?» — «Ну, они же большие, правда?» — сложновато. «Потому что они вылитые Евы» — так было бы честнее.
Хидэаки Анно, как мы помним, рассказывал совсем другую историю, где битвы с Ангелами были лишь фоном. Такой истории за пазухой Хадзимэ Исаямы нет. Есть, надо думать, желание создать вторичный бренд, эдакую стимпанковскую «Еву». Приставить к Эрену-Синдзи девушку Микасу, то молчаливую, как Рэй, то боевитую, как Аска, и давить что есть мочи на самые сильные эмоции — страх, отчаяние, безнадежность. В перерывах — длительные скачки по не пересеченной воображением автора местности. Беспрерывные флешбэки. Минутка юмора: второстепенный герой мечтает жениться на второстепенной героине. Минутка драмы: в решительный момент Эрен пытается превратиться в чудовище, для чего кусает себя за руки (не спрашивайте), его настигает импотенция, кровь и слезы капают на каменные плиты. Минутка философии: герои летят от одного дерева к другому (не спрашивайте) и успевают минут пять побеседовать о главном. Но в основном — то же мордобитие и гиганты, которых финал противоборства застает в позах, всё чаще напоминающих о «Камасутре» (не спрашивайте). Недаром отец «Гандама» Ёсиюки Томино говорит, что жестокость и абсурдность в «Атаке…» вышли на уровень порнографии. Тему титанов, кстати, очень быстро подхватила (18+) «AV-индустрия», то бишь японские порнографы; они, впрочем, регулярно выпускают фильмы косплейной направленности.
Наиглавнейший вопрос анимешной современности: отчего явление, по всем статьям никакое чуть менее, чем полностью, завоевало полмира? Оригинальная манга и ее производные разлетаются как горячие пирожки, мерчандайзовые продажи бьют рекорды, про сериал можно и не говорить. И даже пародийное фанатское письмо сэра Энтони Хопкинса, в котором «Тони-тян» троллит сериал как может («Я снялся в фильме „Остаток дня“. Его хорошо приняли, но, уверяю вас, это просто хлам в сравнении с битвой за район Трост»), свидетельствует о буме «Атаки титанов» лучше любых фанатских сайтов и гигантопедий.
Ядовито-яркую картинку, харизматичных героев и действительно крутой саундтрек можно вынести за скобки — они сами по себе погоды не делают. Вряд ли стоит принимать за норму зрителей, реагирующих на огромных голых людей, расправляющихся с маленькими одетыми людьми, физиологическим возбуждением, хотя доктор Фрейд и академик Волосянис нашли бы что сказать по поводу fucking brutal сцен данного шедевра. Остается очень грустное соображение. «Атака титанов» нарочито проста не только на буквальном уровне, но и на уровне, если угодно, символическом: великаны клокочуще пусты внутри, и каждый волен вложить в них свое содержание. А тут уж — у кого что болит: для кого это хулиганы-старшеклассники, для кого родители, для кого начальство. Сообщают даже, что японцы и тайваньцы видят в великанах стремящийся к абсолютному доминированию Китай, в то время как корейцы, наоборот, углядели в титанах черты милитаризующейся Японии. Российский оппозиционер узрел бы в великане черты Путина, истый единоросс — Навального; участник Евромайдана обнаружил бы сходство чудовищ с Януковичем, житель Донбасса — с Ющенко, и так далее, и так далее. Отождествление себя с героем — залог успеха, а с Эреном и его товарищами способен отождествить себя всякий, кого унижают и оскорбляют какие-нибудь огромные, хищные, безмозглые сволочи. То есть, по-хорошему, любой из нас. «Атака титанов» — это зеркало, и чем дольше его великаны будут оставаться просто великанами, которых, тем не менее, можно крошить в капусту, тем популярнее будет творение Исаямы.
Коммерческое доение голых монстров меж тем продолжается: 9 декабря вышла первая из двух запланированных OVA, ничего к имеющейся пустоте не прибавляющая. Мангака продолжает творить. Правда, он и сам понимает, что именно создал. Из того же интервью: «Какая у вас любимая сцена в „Атаке титанов“?» — «Когда какие-то люди захватывают телестудию и врубают рок-н-ролл. Извините…» Мечты, мечты. —НК