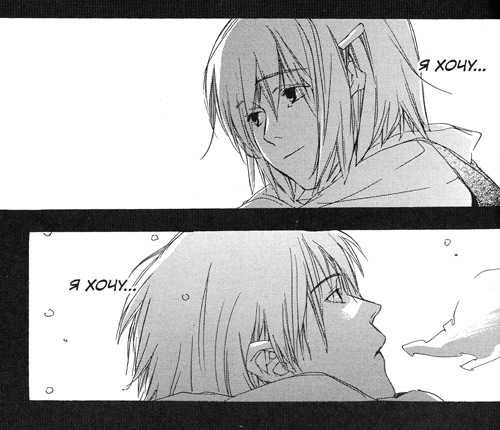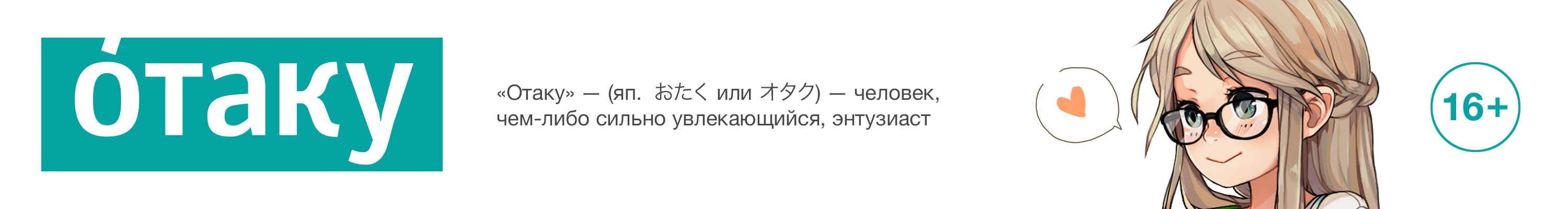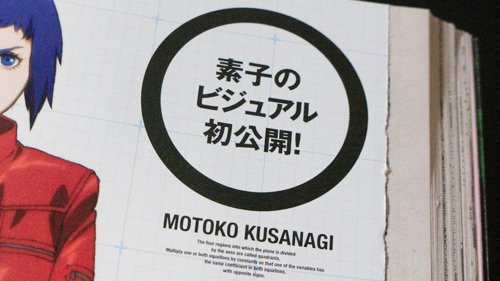Голос далекой звезды
Школьница Микако Нагаминэ с юных лет знает, что будет служить в Космических войсках ООН, которые готовятся к возможной войне с загадочными пришельцами-тарсианами. Когда приходит срок, Микако вместе с космофлотом перемещается на Марс, оттуда на Европу, потом на Плутон, потом в облако Оорта, потом к Сириусу. Всё это время она шлет SMS оставшемуся на Земле ровеснику Нобору Тэрао, в которого влюблена, а он пишет ей в ответ; по мере удаления от Земли письма идут всё дольше — неделями, месяцами, даже годами…

Верю, настанет день, когда студент-гуманитарий защитит диплом о сходстве и различии трех инкарнаций сюжета Макото Синкая «Голос далекой звезды» — в виде аниме, манги и вдобавок новеллизации, сочиненной Ваку Оба, — благо, тут есть что сравнить. Рискну сказать даже, что манга получилась объемнее, интереснее и попросту сильнее аниме. Это неудивительно: говоря объективно, для Синкая эта короткая работа была пробой кисти перед более серьезными проектами, между тем мир «Голоса далекой звезды» режиссер продумал явно глубже, чем нужно было для 25-минутной ленты.
За литературную часть комикса отвечает сам Макото Синкай, который, когда дело касается его сюжетов, показывает себя контрол-фриком в лучшем смысле этого слова. За художественную — мангака с сахарно-пустынным псевдонимом Мидзу Сахара (мидзу — «вода» по-японски, что порождает дополнительные ассоциации), существо крайне разностороннее и в высшей степени загадочное: про эту художницу предположительно женского пола известно только, что она рисует аж под пятью именами — Сумомо Ямэка (яой), Мидзу Сахара (сэйнэн), Кэйта Сахара (сёнэн), Тикюя и Сасси (додзинси), — и за 12 лет снискала популярность во всех этих жанрах. Достаточно сказать, что той же Сахаре Синкай доверил и мангу по своей полнометражке «За облаками».
Выбор псевдонима в данном случае оправдан — сэйнэн, то бишь манга для юношей от 16 и старше, налицо (и на другие части тела): Микако бесперечь блазнит читателя длинными худыми ногами (голые ступни прорисованы чуть не тщательней всего), затемненной подъюбочностью и взглядом блудницы. При этом она абсолютно, вот ни на столечко не похожа на свою тезку из аниме. Вообще, мангу «Голос далекой звезды» можно смело рекомендовать несчастным, страдающим аллергией на «синкаевщину», будь то манера изображения героев или облаков, — герои в комиксе поданы по-иному, облака же имеются в очень незначительном количестве (по большому счету они есть только на самой первой иллюстрации, но изображенное тут грозовое небо синкаевским не назовешь никак).
Отличия комикса от мультфильма этим не ограничиваются. Аниме, как известно, почти лишено диалогов и хаотично в плане сюжета; аморфность композиции компенсируется в нём картинкой, музыкой и цветом — то есть тем, чего по преимуществу черно-белая (если не считать суперобложки и первых восьми страничек) манга лишена. В комиксе сюжет более линеен, хотя и здесь есть флэшбеки, которые можно отличить от «настоящего времени» по черному фону страницы. В таком виде история переписки двух удаляющихся влюбленных теряет почти всякую динамику, и возмещать ее недостаток приходится, как в сказке Григория Остера, подробностями.
Так манга обогащается более или менее детальной историей будущего с его «тарсианским проектом», сюжетными линиями (взять хоть историю с заколкой), героями и продолжением истории, которая в аниме обрывается на полуслове. Особенно любопытны новые персонажи: нас знакомят, например, с Хисой-тян, подругой Микако, с Ваканой Маэдой, имевшей несчастье влюбиться в Нобору, а также с капитаном Мивой, очаровательной манипуляторшей. Эта мастерица кнута и пряника убеждает Микако остаться в Космических войсках, а не возвращаться с марсианской базы на Землю: «В жизни всегда есть место подвигу. И там, и здесь… Я хочу, чтобы ты сама для себя решила, согласна ли ты выполнять поставленную перед тобой задачу. Хотя, если честно, у нас нет для тебя замены». Что на это должна ответить порядочная-то японка? Только «Хай!» — и руки по швам.

Микако в манге вообще более рельефна: тут и ее многолетние мучения по поводу избранности, и попытка не разорваться между Долгом с большой буквы и частными дружбой-любовью (с маленькой), что ребенку — а психологически Микако, конечно, ребенок, — почти не по силам. «Голос далекой звезды» логичнейшим образом вписывается в эволюцию темы «дети как спасители и жертвы», впервые поднятой Хидэаки Анно в «Евангелионе» — кажется, до Синдзи Икари ни один ОЯШ, обычный японский школьник, не испытывал ангста по поводу пилотирования гигантских человекоподобных с целью спасения человечества, — и продолженной в аниме Мамору Осии The Sky Crawlers с его клонами-kildren’ами. Стоит добавить, что в литературе лет за десять до Анно ту же тему блестяще раскрыл в романе «Игра Эндера» фантаст Орсон Скотт Кард, и когда в манге капитан Мива, склоняя Микако к сотрудничеству, описывает ситуацию словами: «Если нас ждет успех, мы — защитники человечества, а если нет — просто расходный материал», — за кадром слышится голос полковника Граффа: «Это и есть наша работа. Мы жестокие колдуны. Мы обещаем детишкам печенье, а потом едим их живьем».
Синкай работает тонко, рисуя картину скупыми, но точными штрихами, и русский перевод передает повсеместную для манги сложную игру интонаций. Вот Нобору едет на велосипеде, вспоминает о подруге, которая в этот момент тренируется где-то на Марсе, и размышляет: «Конечно, Микако умная и спортивная… но всё равно… ей ведь…. столько же, сколько мне…» — и в четыре картинки и четырнадцать слов укладывается весь спектр подростковых чувств, от зависти до тревоги, от заботы до любви. Или, когда во флэшбеке Микако и Нобору мчат на том же велосипеде, видят в небе отряд трейсеров («здоровенных летающих роботов»), и внезапно погрустневшая девочка, склонившись к уху героя, говорит: «Нобору-кун… знаешь… я ведь… я… тоже на таком полечу…» — и сразу становится ясно, что слышим мы по большому счету признание в любви. Только о любви Микако говорить нельзя, потому что Долг важнее. Первым делом — тарсиане, ну а школьники… (Сравните эту фантастическую сцену с другой, реалистической, из «5 сантиметров в секунду»: старт ракеты с космодрома Танэгасимы тоже сопутствует невысказанному «айлавью» героини. Различимы и другие внутрисинкаевские переклички: Тэрао Нобору в какой-то момент начинает заниматься в секции стрельбы из лука, совсем как герой «5 сантиметров», а четвертая планета системы Сириуса, где Микако встречает тарсианина, называется Агартхой, точно как подземное царство в «Ловцах забытых голосов».)
Недостатком манги можно было бы счесть иногдашнюю скудость реплик и постоянно меняющие цвет (с черного на светло-серый) волосы героев, но это продуманный ход, потому что комикс в целом работает на контрасте: детство и взрослая жизнь, космический бой и первый снег, серые будни и космическая романтика. Где-то там, на границе двух миров, связанных ненадежной, дискретной нитью идущих годы и годы писем, и рождается история о том, как это сложно — любить, верить, доверять; как это невозможно — и как в то же время невозможно жить без этой любви. В манге, в отличие от аниме, есть ударный финал. Что характерно, он напоминает финал недавнего романа Джина Вулфа The Home Fires, где описана похожая ситуация — героиня, повоевав в дальнем космосе, вернулась на Землю, к мужу, который из-за того же «парадокса близнецов» теперь старше ее на двадцать лет. Как говорит герой книги Вулфа, omnia vincit amor — «любовь всё одолеет», пусть и через много (световых) лет. —НК