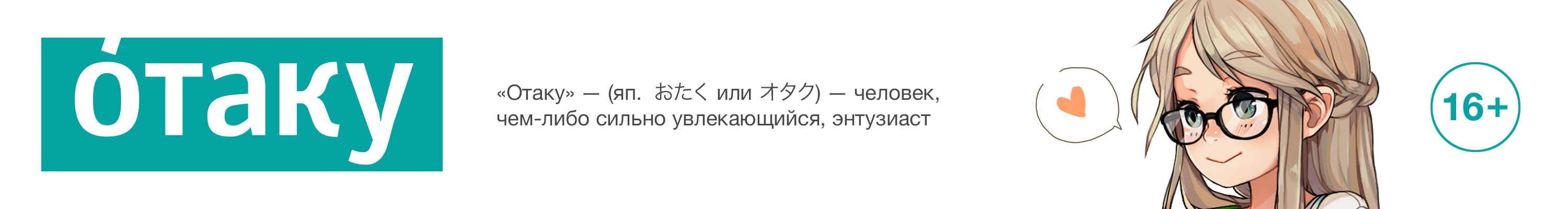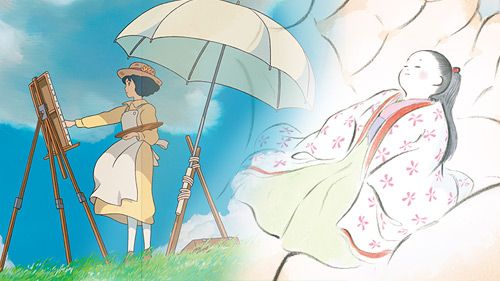Иокогама, 1963 год. Каждое утро старшеклассница Уми поднимает сигнальные флаги в память об отце, который был моряком и погиб на Корейской войне. Ученики школы, где учится Уми, готовятся защищать «Латинский квартал», обветшавшее здание, где размещаются школьные кружки: администрация хочет снести этот дом и выстроить на его месте новый, но обитатели «Латинского квартала» против. Уми знакомится с Сюном, главредом школьной газеты, и предлагает спасти старый дом, отремонтировав его всей школой. Сюн и Уми влюбляются друг в друга, но тут сюжет делает крутой поворот: выясняется, что по отцу они — родные брат и сестра. Что теперь делать?..
Шекспировская драма в Иокогаме 1960-х: «Что значит — брат и сестра?!»
Каждый анимешник в курсе, что в условиях унылой погоды и бытовой депрессии нет ничего лучше для поднятия настроения, чем какой-нибудь светлый фильм студии Ghibli. «Кокурико» — именно из таких фильмов. Его с чистым сердцем можно и нужно рекомендовать детям любого, даже самого пожилого возраста.
И дело не только в сюжете, в том числе потому, что сюжетом дело не ограничивается: «Кокурико» рассказывает не одну историю, а целых три. Впрочем, для Ghibli это не новость — почти любой фильм студии работает на нескольких уровнях; дебютная работа Миядзаки-младшего «Сказания Земноморья» — печальное исключение, лента по-своему неплохая, но плоская, как озеро Бива в безбурную ночь.
Первая история — буквальная, лирическая и очень ностальгическая. Вообще, снять чистое и невинное аниме, главную интригу которого составляет, на секунду, любовь брата и сестры — по нашим временам почти подвиг. Но в старой доброй Японии, донельзя напоминающей Советский Союз (разве что вместо директора завода тут бизнесмен — велика разница!), иной эта история быть не может. Не поймите неправильно: «лирика» тут — вовсе не сентиментальные сопли. Уми — настоящая миядзаковская девица виоде Фио из «Порко Россо» или Кики из «Ведьминой службы доставки»: красивая, умная, упрямая, своенравная и работящая. Если уж влюбилась, так будет стойко ждать возлюбленного под дождем — и надеяться на чудо до последнего. И чудо, конечно, произойдет.
Не зря ведь Уми каждое утро идет к флагштоку — и не зря в школьной газете появляются однажды стихи неизвестного автора:
Девочка, для чего ты поднимаешь флаги?
Ты вверяешь свои чувства утреннему ветру,
И они летят к капризным воронам.
Девочка, сегодня снова будут развеваться
Твои красно-белые флаги на голубом.
Вместе с младшей сестрой Уми отправляется в редакцию газеты — и впервые попадает в дивное пространство «Латинского квартала». Путешествие девочек по пыльным лабиринтам старинного дома напоминает скитания Александра Привалова по НИИЧАВО в великой повести Стругацких. Здесь всюду жизнь — непонятная и жутко интересная. Кто-то где-то толкает безумно длинную и скучную речь о трудностях роста и дальнейших перспективах, кто-то наблюдает за пятнами на Солнце, кто-то связывается по самодельному радио с радиолюбителями по ту сторону океана: «Заработало! Зис из хайскул стьюдент фром Джапан!» Тут и там лежат книги, рядом на веревках сушатся портки, в отдельной комнатке днюет и ночует единственный член философского кружка, огромный детина, напоминающий свирепостью лика то ли классическую японскую военщину, то ли ифрита или иного демона, — что не мешает детине заманивать к себе простаков, дабы порассуждать с ними (ну или перед ними) об экзистенциализме и ницшеанстве. Здесь же расположена редакция еженедельного листка, называющегося так же, как и дом, «Латинский квартал» — в комнате кружка археологии, на входе в которую написано «Кружок изучения древней литературы»…
Это царство здорового абсурда, цитадель прекрасного (и полузабытого) энтузиазма, мир мечты, надежды, будущего, наконец. И это, что характерно, абсолютно мужской мир. Мы привыкли, что в японских кружках, если верить аниме последнего времени, верховодят девушки (ах, Х. С.! не говорите мне о ней!), но в японские шестидесятые и/или у Миядзаки всё по-другому. Сложно сказать, то ли сын перенял мировоззрение отца, то ли отец, будучи соавтором сценария, продолжает наставлять сына и нас с вами, но только женщины в «Кокурико» ведут себя точно так же, как в картинах Миядзаки-старшего.
А именно: пока мужики толкают этот проклятый конформистский мир к светлому будущему — скажем, мужики «Латинского квартала», — а если надо, спасают его ценой своей жизни, как отец Уми, женщины этот мир обустраивают. Они стирают пыль, моют полы, ходят на базар, готовят обед и накрывают на стол. Мужчины — герои, но без женщин их героизм был бы невозможен. Боюсь, феминисткам смотреть «Кокурико» будет непросто, ведь легче легкого описать увиденное в терминах социального рабства. Но это, конечно, никакое не рабство: женщины здесь потому и не ропщут, что они не обслуживают мужчин, а трудятся наравне с ними, просто в иных сферах. Они тоже спасают мир, но по-своему. Недаром именно Уми, предложив просто-напросто прибраться в «Латинском квартале», чтобы все увидели, как там хорошо, в итоге спасает полюбившийся школьникам дом. И вот уже армия девочек, вооружившись швабрами и ведрами, идет убирать давным-давно не убиравшееся помещение…
Какой японец не любит большой семьи?
Вторая история — это, конечно, история Японии, а шире — любой страны, правители которой хотят разрушить прежний мир «до основанья, а затем» (как говорит некий школьник с трибуны: «В нашей школе назрела историческая необходимость снести…» и так далее).
Если прислушаться к безумно длинной и скучной речи, фоном звучащей в «Латинском квартале», мы услышим, что говорят о послевоенной Японии: «Мы и сами не заметили, как привыкли списывать все проблемы страны на послевоенные трудности. Не пора ли задуматься о том, что после принятия новой конституции партии обязаны нести ответственность за свои слова…» В период американской оккупации и сразу после нее вопрос о сохранении собственно Японии — со всеми ее культурными особенностями, с императором, религией синто и письменностью «кана-кандзи-мадзирибун» — стоял просто-таки ребром. Были люди, в том числе и среди японцев, которые желали «моментом в море» отринуть прошлое и начать жить с нового листа, прервать трехтысячелетнюю историю императорской династии, заменить иероглифы латиницей и так далее.
Были ли эти люди правы и насколько — вопрос отдельный. Кто-кто, а Сюн (и оба Миядзаки) от консерватизма и «дедов-консерваторов из правительства» далеки, как от альфы Центавра, — но столь же далеки они все от дурного стремления похерить все, что можно и что нельзя. Зачем сносить наследие прошлого, когда можно его почистить и отремонтировать? Сюн произносит по этому поводу прекрасные слова: «Ломать вещи, потому что они старые, — то же самое, что отказываться от памяти о прошлом, всё равно что забывать людей, которые жили, потому что они умерли. Вы бросаетесь на всё новое и забывате оглянуться на свою историю. Да у вас просто нет будущего!» И это относится далеко не только к архитектуре или политике — это так во всех сферах жизни, в том числе в любви.
Перекличек между «Кокурико» и другими фильмами Ghibli немало — тут есть даже огромное дерево, которое часто присутствует в работах Миядзаки-отца; в «Кокурико» оно растет у дома Уми. При желании в этом аниме наверняка можно отыскать и особенности стиля Миядзаки-сына (первое, что бросается в глаза, — дизайн персонажей второго плана: они все изумительно карикатурные, почти как знаменитые коротышки в космических фантазиях Лэйдзи Мацумото). Но есть в «Кокурико» и еще кое-что — история номер три, почти незаметная на фоне конкретного сюжета и государственной метафора. Фактически этот фильм завершает серьезный разговор отца и сына, начавшийся после «Сказаний Земноморья». Хаяо тогда сказал что-то в том роде, что его отпрыск — бездарность; Горо заявил, что рос практически безотцовщиной, потому что папа вечно пропадал на своей студии. После чего появилось аниме про рыбку Поньо, в котором отец мальчика Сооскэ, рыбак Коити, плавал где-то далеко от дома на судне «Коганэй-мару». Намек более чем прозрачен: Коганэй — это район токийского мегаполиса, в котором расположена студия Ghibli. Хаяо словно извинялся перед Горо, потому что, как ни крути, тот был прав.
В «Кокурико» тема отсутствующих отцов-капитанов раскрыта опять же по полной программе. И если кто думает, что это совпадение, приглядитесь к фильму внимательнее. В одной из ключевых сцен аниме Сюн разговаривает со своим приемным отцом Акио об отце настоящем. Акио — тоже моряк, разговор происходит на буксире в открытом море. «Мы с тобой уже говорили на эту тему, — замечает Акио. — Ты — мой сын, и всё!» В этот момент крохотный буксир проходит мимо громадного судна, чуть с ним не сталкиваясь. На борту корабля написано: «KOGANEI LINE».
Полвека назад Токийский залив был чище, люди — душевнее, цикады — голосистее.
И если уж Миядзаки-отец сделал героем «Поньо» мальчика, похожего на Горо, вряд ли будет таким уж безумием предположить, что героем «Кокурико» стал подросток, похожий на Хаяо. Правда, Сюн чуть моложе будет — в 1963 году Миядзаки-старшему было 22 года, — но это вряд ли важно. Куда важнее то, что Сюн, как и Хаяо, — романтический школьник левых взглядов, будущая «красная свинья». Ведь Латинский квартал — не только традиционный район проживания студентов в пятом и шестом аррондисманах Парижа; это еще и эпицентр студенческих волнений конца всё тех же 60-х —волнений, которые могли изменить мир к лучшему, пусть студенты в этом и не преуспели.
Своего рода квинтэссенция фильма — короткая, но роскошная сцена, в которой Сюн и его друг, глава школьного совета Сиро Мидзунума по-товарищески, как это принято в Японии, справляют малую нужду перед общим деревянным писсуаром. Рядом на стене наклеен лозунг «Иппо дзэнсин» — «Шаг вперед»: самое верное — двигаться мелкими шажками в правильном направлении. «Ну, что у тебя случилось?» — спрашивает заботливый Сиро. «Ничего. До завтра!» — говорит Сюн и уходит. «Давай!» — реагирует Сиро, глядя в окошко и любуясь луной. Заметьте, как в этот длящийся считанные секунды эпизод изящно укладывается буквально всё: и политика, и коллективизм, и эстетика, и дружба, и любовь к ближнему.
Так и весь этот чудесный фильм, вмещающий в полтора часа огромное количество всего и очень напоминающий, как ни странно, наши фильмы о золотом советском времени, будь то «Стиляги» или «Покровские ворота». Даже забавно, что предфинальный бег миядзаковских героев за счастьем так похож на последнюю сцену «Покровских ворот», где мотоциклист Савранский с ревом гонит своего железного коня в манящее завтра. Пересечение окажется чуть более чем полным, если учесть, что мчатся Уми и Сюн под композицию под названием «Асита-ни мукаттэ хасирэ» — «Бегом в завтрашний день». Саундтрек «Кокурико», кстати, божественен. Прибавьте прекрасный дубляж Reanimedia (попадание актеров в образы близко к идеальному) и очень приличный перевод, к которому есть единственный упрек: в последнем куплете финальной песни «завтрашняя любовь» (асита-но аи, она же «припев, слова, которые не кончаются») стала в субтитрах «вчерашней», так что русский вариант текста оказывается куда грустнее японского.
«Кокурико» — абсолютно нефальшивое, ни капельки не наигранное аниме, веселое, трогательное до слез и какое-то человечески правильное. И когда после титров видишь надпись «Коно моногатари-ва субэтэ фикусён дэс» («Эта история вся выдумана от начала до конца»), за каждым японским знаком различима хитрая улыбка. Или даже две улыбки — отца и сына. Меньшего от семейства Миядзаки мы и не ждали. Ура, товарищи. — НК
Kokurikozaka kara, полнометражный фильм, 92 минуты, 2012 год. Режиссер Горо Миядзаки, производство Studio Ghibli. Издатель в России — компания RUSCICO.